Еврей избранный и еврей избирающий
Давид Палант
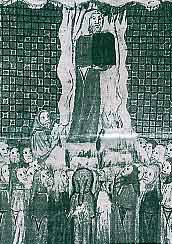 Контакты
с евреями, приезжающими в СНГ из стран Запада или из Израиля, зачастую
вызывают у их братьев в бывшем СССР определенные негативные эмоции. Гости
осознанно или неосознанно создают у собеседников ощущение, что считают
подлинными представителями еврейства только себя, ибо прибыли из стран
с высоким уровнем жизни, благополучных не только экономически, но и, что
более важно в рамках данной темы, в том, что касается обшинной жизни,
имеющей долгую историю и разветвленную структуру, в рамках которой решаются
вопросы воспитания, просвещения, культуры и соблюдения еврейской традиции.
Иными словами, состояние российского еврейства аномально и еврейская жизнь
на Западе должна быть моделью для подражания. Контакты
с евреями, приезжающими в СНГ из стран Запада или из Израиля, зачастую
вызывают у их братьев в бывшем СССР определенные негативные эмоции. Гости
осознанно или неосознанно создают у собеседников ощущение, что считают
подлинными представителями еврейства только себя, ибо прибыли из стран
с высоким уровнем жизни, благополучных не только экономически, но и, что
более важно в рамках данной темы, в том, что касается обшинной жизни,
имеющей долгую историю и разветвленную структуру, в рамках которой решаются
вопросы воспитания, просвещения, культуры и соблюдения еврейской традиции.
Иными словами, состояние российского еврейства аномально и еврейская жизнь
на Западе должна быть моделью для подражания.
У подобного вывода есть определенные основания, ведь трудно спорить с
тем, что известные исторические обстоятельства в последнем столетии сделали
невозможным естественное развитие еврейской жизни. Активная общинная деятельность
в СССР-СНГ в последние пятнадцать лет направлена на исправление этой аномалии.
Однако при исследовании данной темы следует быть крайне осторожными, чтобы
не совершить ошибку и правильно оценить характер духовного процесса, совершающегося
в наше время, в свете больших задач, стоящих перед еврейством России.
Позиция, в соответствии с которой изменения, происходящие с индивидуумом
и общиной, следует определять по установленной шкале, чья высшая точка
— некий идеальный (западный) еврей или идеальная (западная) еврейская
община, в максимальной степени отвечающие критериям, принятым для этих
определений с точки зрения знаний, связи с иудаизмом, еврейским народом,
землей и Страной Израиля, грешит высокомерием и непозволительным патернализмом
и проистекает из недостаточного понимания миссии еврейства. Чтобы прояснить
сказанное выше, отправимся в путешествие к истокам еврейской истории,
к дарованию Торы народу Израиля на горе Синай и, на первый взгляд, к второстепенному
сюжету из предшествующих этому событию глав книги «Шмот» («Исход»). Вот
что говорит один из мидрашсй, толкующий стих, где рассказано о сынах Израиля,
стоявших у Синая перед получением Закона: «"И остановились у (букв., "в")
подножья горы" — отсюда мы учим, что поднял над ними Всевышний гору, как
купол, и сказал: принимаете Тору — хорошо, а нет — тут будет вам могила»
(Талмуд, «Авода зара», 2). Многие еврейские мыслители в разные эпохи объясняли
этот мидраш так: после исхода из Египта сыны Израиля удостоились таких
чудес и Б-жественных откровений, что теперь у них, по сути, не осталось
иного выбора, кроме как принять Тору и взять на себя обязательства перед
нею и Тем, Кто ее дарует. Великое Откровение — ультиматум Творца, предъявленный
евреям, — было, если воспользоваться классическим выражением из фильма
«Крестный отец», «предложением, от которого невозможно отказаться». Иными
словами, у евреев не было альтернативы, не было сомнений. А из этого следует,
что они были, собственно говоря, лишены свободы выбора в принятии Торы.
Такое положение много лет спустя, во времена пуримского чуда, было выправлено
их потомками, о чем сказано в мидраше: «Несмотря на это, приняло ее поколение
в дни Ахашвероша», — но данная тема уже «из другой оперы» и здесь мы не
станем останавливаться на ней.
Так что если кто-то и сделал на Синае выбор, то это — Всевышний, «...Который
избрал нас из всех народов». Кто осмелится отказаться от подобного предложения?
Великие события, сопровождавшие дарование Торы, упомянуты в книге «Шмот»
в главе, названной «Итро». Кто же такой Итро? Тесть Моше, учителя нашего,
отец Ципоры, жены Моше, зарабатывавший на жизнь в должности главного жреца
мидьянитян. Эта глава начинается следующим описанием: «И услышал Итро,
жрец мидьянский, тесть Моше, обо всем, что сделал Всевышний с Моше и народом
его, о том, что вывел Всевышний Израиль из Египта» (18:1). Далее приведены
слова Итро, обращенные к Моше: «Теперь знаю я, что Всевышний выше всех
божеств» (18:11). Мидраш сопровождает их следующим экскурсом в историю:
«Не было в мире идолослужения, которое бы не испробовал Итро... в конце
концов принял иудаизм и признал Всевышнего» («Мехильта», гл. «Итро», 1).
Итро символизирует человека, ищущего духовность, веру и не знающего покоя,
пока не найдет искомое. Поиск этот предполагает анализ, испытания, необходимость
выбора. В мидраше содержится еще более драматическое описание переговоров
Моше с Итро:
«"И соизволил Моше сесть с тем человеком". Когда сказал Моше Итро: "Дай
мне Ципору, дочь твою, в жены", — тот ответил ему: "Прими одно мое условие,
и я отдам ее тебе в жены". Спросил Моше: "Какое"? Сказал ему тот: "Пусть
сын, который родится у тебя первым, будет воспитан в идолопоклонстве,
а другие пусть будут посвящены Небесам". И согласился [Моше]». («Ялкут
Шимони», гл. «Шмот», 1696). Эта странная и загадочная беседа вызывает
естественный вопрос: если Итро действительно убедился в величии Всевышнего,
почему он потребовал, чтобы один из его внуков, сын Моше, стал язычником?
Раби Менахем-Мендл, Ребе из Коцка, известный остротой и глубиной мысли,
ответил на этот вопрос так: Итро хотел, чтобы по крайней мере у одного
сына осталась возможность выстоять в испытании, которое прошел он сам,
и найти свою дорогу к истине. Велика опасность, что сын собьется с пути
и пропадет. Но в той же мере велики и возможности, велика ценность веры,
обретенной благодаря поиску, испытаниям, верному выбору, она более ценна,
чем вера, полученная в дар. Этот путь не оптимален для общества, и трудно
пожелать ближнему такую судьбу, но безусловно велика заслуга человека,
которого привели на этот путь обстоятельства и он успешно прошел его.
Сопоставление двух событий, описанных в этой главе и истолкованных на
буквальном и аллегорическом уровнях, помогает нам понять и события нашей
эпохи, характерной двумя путями, определившими судьбы еврейских общин
Израиля и западных стран, с одной стороны, и еврейства России — с другой.
Если одной части народа Израиля посчастливилось беспрепятственно развиваться
в духовном и культурном плане, то другая была вынуждена кочевать по пустыне
без проводника, без помощи, без чудес. Если один сын Моше пошел вместе
с ним принимать Тору, то другой остался с дедом в Мидьяне, рос среди идолопоклонников
и самостоятельно искал и находил путь к вере. Если один — избранный сын,
то другой — избравший.
Евреи России не должны смотреть на своих братьев с Запада снизу вверх.
Путь их отличен, он труднее, им послано большее испытание. Человек может
вырасти в традиционной еврейской среде, получить отличное воспитание и
образование, пользоваться всеми благами, которые может предложить община,
и, вместе с тем, быть маленьким евреем, не выстрадавшим свой иудаизм,
евреем избранным, но не избравшим. И на нем лежит нелегкая задача: доказать,
что выбор его Всевышним оправдан, что он достоин своей судьбы и не относится
к ней, как к чему-то само собой разумеющемуся. Еврей может родиться в
маленьком городке на Украине, в Сибири или в любом другом месте на просторах
бывшей Российской империи, быть воспитанным как гой, вырасти как гой,
но найти в душе искру еврейства и постепенно разжечь из нее костер. Каждый
шаг, который он сделает в направлении своего еврейства, может быть более
важным, чем целая жизнь еврея, выросшего в Израиле или Америке, для которого
его еврейство является чем-то рутинным, в чем нет ни испытаний, ни борьбы.
Экзамен на еврейство состоит не только в соблюдении кашрута в Бней-Браке
или в изучении Торы в Иерусалиме. Самое тяжелое испытание — в том, чтобы
зажечь ханукальные свечи у окна своей квартиры в Петербурге или записать
ребенка в еврейскую школу в Кишиневе. Прочность любой системы определяется
не на основе опытов в лаборатории — там обычно все функционирует хорошо.
Ее стойкость проверяется на местности, в экстремальных ситуациях. Иудаизм
доказывает свою вечность способностью существовать в любое время, во всяком
месте и в любых условиях. В нашем поколении это испытание выпало на долю
российских евреев, и каждый их шаг на пути к своей вере — ярчайшее и убедительнейшее
свидетельство истинности их еврейства. Это великий вызов, принятый евреями
бывшего СССР, и они могут только гордиться тем, что приняли его. Они не
только не живут благодаря помощи своих братьев, напротив — возможно, что
именно стойкость этих людей в тяжелом кризисе, постигшем их, оправдывает
еврейское существование во всем мире и придает их братьям сил. Не напрасно
удостоился Итро того, что глава Пятикнижия, где речь идет о даровании
Торы на горе Синай, была названа его именем. Перед евреями России стоит
великая задача: сделать так, чтобы глава, повествующая о событиях в жизни
сынов Израиля в наши дни и описывающая духовное величие избранного народа,
была названа их именем — именем людей, совершающих выбор в тяжелейших
условиях, продвигающихся вперед шаг за шагом, но с искренней и полной
верой в свое еврейство и свое будущее. И последнее: еврейству приходится
учиться — это долгая и многотрудная работа, но именно она позволяет тысячам
бывших советских евреев становиться и быть неотделимой частью своего народа.
Существует ли в еврейском праве запрет на эмиграцию в Германию после Катастрофы?
 Избрание
страны проживания — дело сугубо личное. Но с точки зрения еврейской традиции
выбор места жительства должен быть обусловлен тем, насколько полно еврей
может реализоваться там в служении Всевышнему. Если для вас очевидно,
что в Германии у вас будут более благоприятные условия для того, чтобы
вести еврейский образ жизни, чем, скажем, в Израиле, Америке или России,
то нет никаких противопоказаний переселению туда. Избрание
страны проживания — дело сугубо личное. Но с точки зрения еврейской традиции
выбор места жительства должен быть обусловлен тем, насколько полно еврей
может реализоваться там в служении Всевышнему. Если для вас очевидно,
что в Германии у вас будут более благоприятные условия для того, чтобы
вести еврейский образ жизни, чем, скажем, в Израиле, Америке или России,
то нет никаких противопоказаний переселению туда.
Согласно букве еврейского Закона, не существует разницы между эмиграцией
в Германию, или Испанию, где в средние века инквизиция сжигала евреев
на кострах, или на Украину, где в семнадцатом веке их уничтожали банды
Хмельницкого.
Сам же факт возникновения этого вопроса свидетельствует о наличии моральной
проблемы. Для того, чтобы мы стали относиться к этой стране так же, как
ко всем остальным, должно пройти немало времени: рана еще слишком свежа.
К тому же в подавляющем большинстве случаев эмиграция в Германию имеет
отнюдь не ту мотивацию, о которой сказано в начале.
ХАСИДСКИЕ ПРИТЧИ
И РАССКАЗЫ
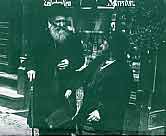 Сколько
места занимает еврей? Сколько
места занимает еврей?
Стоя на коленях, человек занимает, безусловно, больше места, чем стоящий прямо. Об иерусалимском же Храме рассказывают удивительную вещь: паломники стояли вплотную друг к другу — пальца между ними не просунуть, — но когда они становились на колени, было им просторно. Когда каждый осознает свою значимость, трудно ближнему найти рядом с ним место. И стоят евреи вплотную — «пальца между ними не просунуть». Но тот, кто оценивает себя в сравнении с Творцом, «преклоняет колени», не занимает так много места, и ближнему просторно рядом с ним.
Дерзость и скромность
Сказано: «Дерзкий — в ад, скромный — в рай». Обычно объясняли эти слова так: дерзость, одно из худших качеств личности, ведет прямо в ад, скромность же похвальна и вознаграждается уделом в раю.
— Не так надо толковать эти слова, — сказал ученикам раби Мендл. — Чтобы оставаться евреем в аду, нужны дерзость и смелость. Скромник же, тихоня, только в раю может уберечься от соблазнов.
Правда и ложь
Сказал однажды раби Леви-Ицхок:
— Перевернулся мир! Наши святые предки говорили правду на улицах города и на ярмарке, но не боялись лгать в синагоге. А мы лжем на улицах и площадях, но в синагоге говорим правду.
— Как должны мы понять эти странные слова? — испугались ученики Ребе.
— Наши предки шли по пути правды. Поэтому, когда произносили они покаянную молитву: «Виновны мы; были вероломны, грабили, лицемерили...», — были слова их ложью. А когда мы в синагоге произносим эти слова: «Виновны мы; были вероломны, грабили, лицемерили...» — молитва наша — чистая правда!
Понять — и умереть
Спросил раби Зуше раби Элимелеха:
— Известно, что в душе Адама заключались души всех грядущих поколений. Значит, и мы были с ним, когда нарушил он заповедь Всевышнего и сорвал плод с Древа познания. Как мы, столь осторожные в соблюдении заповедей, позволили ему это?
— Лучше так: откусить, понять, что за соблазном не кроется ничего хорошего, одна ложь. Осознать это — и умереть, — ответил ему брат. — Это лучше, чем остаться бессмертным и год за годом, век за веком втайне мечтать вкусить от запретного плода.
Старый и глупый царь
Выйдя из тюрьмы, раби Исроэл из Ружина рассказал своим хасидам:
— Талмуд уподобляет злое начало «старому глупому царю». Ясно, почему оно названо старым: оно ведь старше людей. Не удивительно и то, что оно уподоблено царю: в руках злого начала — страсти человеческие и вожжи, правящие многими из нас. Но всю жизнь я спрашивал себя: почему о царе сказано, что он глуп? Ответ я нашел в тюрьме. Мое злое начало не оставило меня и там. «Что ты делаешь здесь, дурак, — спросил я его, — у меня-то нет выбора, я арестован, а ты почему здесь?»
Ермолка набекрень
Когда исполнилось Менахему-Мендлу одиннадцать лет, принял его Магид в свою иешиву.
Однажды, после субботней трапезы, увидел Магид, как Менахем-Мендл вышагивает по двору: гордый, с высоко поднятой головой, в лихо сбитой набекрень ермолке.
— Сколько листов Талмуда выучил ты сегодня? — спросил Магид.
— Шесть, — ответил ученик.
— После шести листов ты сдвинул ермолку на ухо, сколько же тебе надо выучить, чтобы вовсе сбросить ермолку? Говорят, что в этот день навсегда забыл Менахем-Мендл вкус гордыни.
Кто там?
Один из учеников Великого Магида отправился домой после нескольких лет, проведенных с учителем. По дороге он решил навестить друга и соученика, раби Агарона из Карлина. Дело было поздней ночью. Ученик Магида постучал в дверь раби Агарона.
— Кто там? — спросил хозяин.
— Я, — ответил гость.
— Разве ты не знаешь, что только Всевышний может сказать о себе «Я», — ответил раби Агарон, не открывая дверь. — Этот мир слишком тесен, чтобы вместить два «Я». Разве там, откуда ты идешь, не объяснили тебе это?
Избранничество без высокомерия
 Трудно
любить евреев, но и ненавидеть их — тяжелая работа. Не завидую антисемитам:
сколько сил они тратят на суетливые поиски причин своей ненависти — на
самом деле, иррациональной! Им трудно: евреи, как правило, ведут себя
прилично, к законам относятся почтительно, не склонны к насилию. Если
и раздражают окружающих, то только громкими голосами, многословием и оживленной
жестикуляцией. Разумеется, тщательные поиски причин для вражды не остались
совсем уж тщетными. Кроме дежурных тем (кровь в маце, насильственное спаивание
народа-трезвенника), нас обычно попрекают манией величия, то есть верой
в наше избранничество. Мало того — мне все чаще приходится слышать это
обвинение от бойких старичков-евреев с манерами комиссаров-отставников.
Усвоившие в советской жизненной школе главное правило: будь как все, —
они всегда готовы попенять раввину: «Мы сами во всем виноваты! Ну кто
будет любить выскочку, который тысячелетиями трубит: меня избрал Б-г!»
Как и многие расхожие подходы, этот тоже основан на непонимании сути,
на курьезной ошибке. Дело в том, что сказать: «Всевышний избрал евреев»
и «Евреи лучше (умнее, порядочнее, образованнее и т.п.) других народов»
— отнюдь не одно и то же. Мой родственник, переживший Бухенвальд и Магадан,
написал книгу об истории евреев, в которой привел список «наших» нобелевских
лауреатов. Их 97 из 471, если я не ошибаюсь. Так вот: это ничего не значит
в мировоззренческом смысле и не имеет никакого отношения к избранничеству
евреев. В Торе не написано: «И будете вы Мне народом математиков и шахматистов».
Там сказано: «И будете Мне народом святым». Но и это может быть понято
неверно, словно евреи изначально наделены особой святостью. Нет, избранничество
— это не приз, а миссия, «дополнительная нагрузка». Б-г имеет право на
прихоти. Он выбрал Аврагама не только потому, что Аврагам выбрал Его,
но и потому, что у Него, Всевышнего, как у учителя, есть «любимчики в
классе», те, с кого он может спросить больше, чем предусматривает программа.
Любовь — в этом слове ключ к пониманию феномена избранничества. Когда
человек влюблен, он не может ответить, что именно пленило его в возлюбленной.
И это не случайно: для окружающих она ничем не отличается от других девушек.
Особенной ее делают, как говорят по-еврейски, «глаза смотрящего», точнее
«глаза влюбленного». Трудно
любить евреев, но и ненавидеть их — тяжелая работа. Не завидую антисемитам:
сколько сил они тратят на суетливые поиски причин своей ненависти — на
самом деле, иррациональной! Им трудно: евреи, как правило, ведут себя
прилично, к законам относятся почтительно, не склонны к насилию. Если
и раздражают окружающих, то только громкими голосами, многословием и оживленной
жестикуляцией. Разумеется, тщательные поиски причин для вражды не остались
совсем уж тщетными. Кроме дежурных тем (кровь в маце, насильственное спаивание
народа-трезвенника), нас обычно попрекают манией величия, то есть верой
в наше избранничество. Мало того — мне все чаще приходится слышать это
обвинение от бойких старичков-евреев с манерами комиссаров-отставников.
Усвоившие в советской жизненной школе главное правило: будь как все, —
они всегда готовы попенять раввину: «Мы сами во всем виноваты! Ну кто
будет любить выскочку, который тысячелетиями трубит: меня избрал Б-г!»
Как и многие расхожие подходы, этот тоже основан на непонимании сути,
на курьезной ошибке. Дело в том, что сказать: «Всевышний избрал евреев»
и «Евреи лучше (умнее, порядочнее, образованнее и т.п.) других народов»
— отнюдь не одно и то же. Мой родственник, переживший Бухенвальд и Магадан,
написал книгу об истории евреев, в которой привел список «наших» нобелевских
лауреатов. Их 97 из 471, если я не ошибаюсь. Так вот: это ничего не значит
в мировоззренческом смысле и не имеет никакого отношения к избранничеству
евреев. В Торе не написано: «И будете вы Мне народом математиков и шахматистов».
Там сказано: «И будете Мне народом святым». Но и это может быть понято
неверно, словно евреи изначально наделены особой святостью. Нет, избранничество
— это не приз, а миссия, «дополнительная нагрузка». Б-г имеет право на
прихоти. Он выбрал Аврагама не только потому, что Аврагам выбрал Его,
но и потому, что у Него, Всевышнего, как у учителя, есть «любимчики в
классе», те, с кого он может спросить больше, чем предусматривает программа.
Любовь — в этом слове ключ к пониманию феномена избранничества. Когда
человек влюблен, он не может ответить, что именно пленило его в возлюбленной.
И это не случайно: для окружающих она ничем не отличается от других девушек.
Особенной ее делают, как говорят по-еврейски, «глаза смотрящего», точнее
«глаза влюбленного».
В следующий раз, когда вас спросят об избранности евреев, не начинайте
ответ словами «потому что мы...», попробуйте начать ответ с «потому что
Он...».
Александр Фейгин
«ДУХОВНОЙ ЖАЖДОЮ ТОМИМ»
В жизни каждого мыслящего человека наступает момент, когда он задает
себе сложные, а зачастую и болезненные вопросы: «Кто я? Что знаю и умею?
Что останется после меня? В чем смысл моей жизни?» Ответы на них бывают
разными и иногда неутешительными. Но главное все-таки не ответы, а вопросы.
Почему они возникают? Любой не обделенный духовно человек не может не
задуматься о смысле и сути своего существования. Причем осмысления требуют
буквально все аспекты бытия: социальный, профессиональный и даже национальный.
Я говорю «даже», поскольку именно национальную принадлежность мы, вроде
бы, не выбираем. Но когда речь идет о еврее, это становится вовсе не очевидным.
Традиционное представление о евреях как о народе Книги, мыслящем и ищущем,
на самом деле оправданно, ибо на протяжении всей своей истории мы действительно
были народом Книги, народом Торы. Так уж сложилось исторически, что с
трех лет каждый ребенок начинал учиться. Без учебы, книг, активного познания
еврейская жизнь немыслима и лишена смысла. К сожалению, за долгие годы
скитаний, лишений и борьбы за выживание устои этой традиции заметно поколебались.
Да и время изменилось. У людей возникли иные потребности, снизилась мотивация
к учебе, появилось много суперсовременных способов удовлетворять свои
потребительские наклонности. Получение готовых ответов на вечные вопросы
оказалось предпочтительней самостоятельного поиска. Проблема еще и в том,
что преподносимая нам информация может быть, мягко говоря, недостоверной.
Ее интерпретация — ангажированной, содержание — убогим. А ведь думать-то
надо самостоятельно! Но для этого необходимо что-то знать, а следовательно,
учиться — прежде всего, по первоисточникам. Иногда учеба дается мучительно
и сложно, иногда — весело и непринужденно, но иного пути нет. Чтобы это
стало возможным, в Институте изучения иудаизма в СНГ под руководством
раввина Адина Штейнзальца была создана программа заочного самообразования
«Лимудим» — «Учеба».
Что это за программа и для кого она предназначена? Пять лет ее существования
показали, что она — для каждого, кто хочет не просто получить элементарные
сведения о традиции и наследии своего народа, но осмыслить и понять их
духовную и нравственную основу. Трудная, но какая же увлекательная задача!
Эта программа светская, хотя и построена на религиозных текстах и комментариях
к ним. Она вполне академическая, хотя может быть усвоена людьми самых
различных возрастов и образовательного уровня. Каждый, кто захочет учиться,
получит удовольствие от самого процесса познания, все глубже постигая
вечную мудрость еврейской мысли. Первый и пока единственный из уже завершенных
курсов — «Тора: имена
и судьбы» — знакомит нас с библейскими персонажами, от Адама до Иегуды.
Двенадцать брошюр — учебных пособий, включающих в себя тексты Пятикнижия,
переводы и комментарии, контрольные задания и справочные материалы, —
повествуют о жизни наших предков. Но их судьбы — это и наши с вами судьбы.
Разве в нашей жизни не было сомнений и смятения, уныния и восторга, успехов
и поражений? Разве мы не блуждали в духовной «пустыне мрачной», разве
не были озабочены будущим своих детей и своего народа? Эта наша общая
с праотцами судьба и является темой нашего курса. Но уже начат и новый
курс: «Танах о падении и возрождении
Иерусалима». Вышли уже два пособия: «Пророк народов» и «Это Храм Б-га».
Каждый учащийся вправе пройти оба курса либо выбрать
один из них.
Тысячи людей учатся по программе «Лимудим» и пишут нам. Они ждут выхода
в свет новых учебных материалов, новых книг, ждут очередной встречи с
еврейской мыслью, еврейской мудростью, еврейской традицией.
Г. Лернер
 Вернуться
Вернуться 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПИНКУСА
ПО РАЗВИТИЮ ЕВРЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДИАСПОРЕ, ИЗРАИЛЬ
|