МОЛИТВА
О СУТИ МОЛИТВЫ
Раввин Адин Штейнзальц
 Существуют
самые разные способы выражения религиозных чувств — от действий чисто
обрядовых до серьезных решений, которые человек принимает или отвергает
в зависимости от того, оценивает он их соответствующими воле Создателя
или противоречащими ей. Но самое яркое проявление религиозного чувства
— это, несомненно, молитва. Молитва — прямое обращение к Б-гу: совершенно
независимо от формы, она по сути всегда остается отчетливым обращением
человеческого «я» к Б-жсственному «Ты», и, как и всякое иное обращение,
может быть выражением благодарности, жалобой и даже беседой. Многочисленные
молитвы, содержащиеся во всех книгах Писания (в особенности в Книге Псалмов,
в основе своей являющейся сборником личных и общественных молитв), представляют
собой все типы и разновидности молитв. То же можно сказать о молитвах
и благословениях, включенных в сидур. Существуют
самые разные способы выражения религиозных чувств — от действий чисто
обрядовых до серьезных решений, которые человек принимает или отвергает
в зависимости от того, оценивает он их соответствующими воле Создателя
или противоречащими ей. Но самое яркое проявление религиозного чувства
— это, несомненно, молитва. Молитва — прямое обращение к Б-гу: совершенно
независимо от формы, она по сути всегда остается отчетливым обращением
человеческого «я» к Б-жсственному «Ты», и, как и всякое иное обращение,
может быть выражением благодарности, жалобой и даже беседой. Многочисленные
молитвы, содержащиеся во всех книгах Писания (в особенности в Книге Псалмов,
в основе своей являющейся сборником личных и общественных молитв), представляют
собой все типы и разновидности молитв. То же можно сказать о молитвах
и благословениях, включенных в сидур.
Интимность молитвы
Молитва — наиболее личное проявление связи еврея со Всевышним — произносится
ли она наедине в ночной тиши или же в синагоге, повторенная многими голосами.
Беседа между человеческим «я» и Б-жественным «Ты» исходит из простой,
но чрезвычайно важной предпосылки, что такое обращение возможно, ибо «действительно
слышит Г-сподь, внимая гласу молитвы моей» (Псалмы 66:19). Сознание того,
что «Ты слышишь молитву из любых уст», движет человеком, когда он высказывает
перед Всевышним все личное и сокровенное — свои желания и помыслы. Такая
молитва, о которой сказано в Псалмах (102:1): «Перед Г-сподом изольет
он душу свою», требует от человека чувства близости к Б-гу. В наших молитвах
зачастую Б-г называется «Отцом» («Отец наш, Отец милосердный»). Сын, стоящий
перед отцом, чувствует, что он может раскрыть свое сердце, пожаловаться,
попросить помощи. Молитва всегда основывается на этом чувстве близости,
выраженном в словах, которые мы произносим в Дни Трепета: «Ибо мы — Твои
дети, а Ты — наш Отец», и иначе, с более глубинной, мистической стороны:
«Мы — Твоя подруга. Ты — наш близкий Друг».
Молитва как предстояние Царю
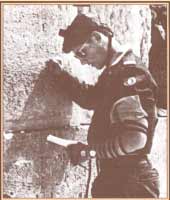 Но
наряду с этой стороной молитвы, есть у нее и другая сторона, связанная
с другой точкой зрения на характер взаимоотношения человека с Творцом,
точкой зрения, проявляющейся в словах пророка: «Есть ли тот, кто осмелится
подойти ко Мне?! — сказал Г-сподь» (Иеремия 30:21), или, иначе «Я — Царь
великий, — сказал Г-сподь Воинств, — и Имя Мое устрашает народы» (Малахи
1:14). Здесь передается ощущение трепета перед Б-жественным величием,
сознания расстояния между человеком и Всевышним, сознания, от которого
человек, по словам Маймонида, «отпрянет, испугается, почувствует себя
ничтожной, неразумной тварью...» (Законы основ Торы, 2:2). При таком отправном
пункте нет места интимной беседе, молитва приобретает другой характер
— характер служения. А когда сама молитва становится священной церемонией,
она должна быть соответственно и устроена. Каждое слово в ней должно быть
на нужном месте, каждая фраза должна выполнять свою функцию, человек должен
быть облачен в особую одежду, каждое его движение должно быть продумано.
Молитва начинает напоминать царский прием с его отлаженным церемониалом.
Такой обряд может происходить в Святилище Царя, которое символизирует
обитание Всевышнего, а может и в любом другом месте — ведь для Его обитания
нет ограниченного места в пространстве. «Храм» имеет в этом случае духовный
смысл, но в него нужно «войти» перед молитвой так же, как входят в материальный
дворец, проходя комнату за комнатой, пока не предстанешь перед Б-жественным
Присутствием. Такое ощущение трепета перед Б-жественным величием выражено
в словах Экклезиаста (5:1): «Ибо Б-г в небесах, а ты на земле: поэтому
да будут речи твои немногословны». Наличие качественной дистанции не позволяет
человеку говорить как придется: каждое слово его должно быть взвешено,
каждое движение — рассчитано. Не надо думать, что такое отношение к молитве
непременно сопряжено с состоянием страха, подавленности; напротив, человек
сознает, что удостаивается великой чести — «быть введенным в покои Царя»
(Песнь Песней 1:4). Но
наряду с этой стороной молитвы, есть у нее и другая сторона, связанная
с другой точкой зрения на характер взаимоотношения человека с Творцом,
точкой зрения, проявляющейся в словах пророка: «Есть ли тот, кто осмелится
подойти ко Мне?! — сказал Г-сподь» (Иеремия 30:21), или, иначе «Я — Царь
великий, — сказал Г-сподь Воинств, — и Имя Мое устрашает народы» (Малахи
1:14). Здесь передается ощущение трепета перед Б-жественным величием,
сознания расстояния между человеком и Всевышним, сознания, от которого
человек, по словам Маймонида, «отпрянет, испугается, почувствует себя
ничтожной, неразумной тварью...» (Законы основ Торы, 2:2). При таком отправном
пункте нет места интимной беседе, молитва приобретает другой характер
— характер служения. А когда сама молитва становится священной церемонией,
она должна быть соответственно и устроена. Каждое слово в ней должно быть
на нужном месте, каждая фраза должна выполнять свою функцию, человек должен
быть облачен в особую одежду, каждое его движение должно быть продумано.
Молитва начинает напоминать царский прием с его отлаженным церемониалом.
Такой обряд может происходить в Святилище Царя, которое символизирует
обитание Всевышнего, а может и в любом другом месте — ведь для Его обитания
нет ограниченного места в пространстве. «Храм» имеет в этом случае духовный
смысл, но в него нужно «войти» перед молитвой так же, как входят в материальный
дворец, проходя комнату за комнатой, пока не предстанешь перед Б-жественным
Присутствием. Такое ощущение трепета перед Б-жественным величием выражено
в словах Экклезиаста (5:1): «Ибо Б-г в небесах, а ты на земле: поэтому
да будут речи твои немногословны». Наличие качественной дистанции не позволяет
человеку говорить как придется: каждое слово его должно быть взвешено,
каждое движение — рассчитано. Не надо думать, что такое отношение к молитве
непременно сопряжено с состоянием страха, подавленности; напротив, человек
сознает, что удостаивается великой чести — «быть введенным в покои Царя»
(Песнь Песней 1:4).
«Отец наш, Царь наш»
 Эти
две точки зрения, на первый взгляд, совершенно противоположные, сосуществуют
в мировоззрении иудаизма. Вот строки из сидура: «Ты дальше, чем все далекое,
и ближе, чем все близкое» («Шир га-Ихуд»), или еще: «Если я найду Тебя,
Ты скроешься от меня, а если не найду, то Слава Твоя наполнит весь мир».
Эта двойственная концепция, называемая в философии трансцепдентно-имманентной
(а на языке Каббалы обозначаемая как: «Б-г вне всех миров и наполняет
все миры»), является неотъемлемой частью еврейского взгляда на мир. Она
обсуждается, прямо или косвенно, во всех книгах по еврейской философии.
Классическое для еврейских книг обозначение Б-га как «га-Кадош Барух гу»
(«Святой, Благословен Он»), а также каббалистическое обозначение Всевышнего
«Эйн Соф Барух гу» («Бесконечный, Благословен Он») — само по себе объединяет
эти две характеристики: удаленность и приближенность. Удаленность трансцендентность
выражается понятием «Кадош» («Святой») или «Эйн Соф» («Бесконечный»),
а приближенность/имманентность — понятием «Барух» («Благословенный»).
Все это не просто абстрактная проблема, интересующая лишь философов, —
она находит свое выражение в самой сути еврейской молитвы. Невозможно
понять молитву, не учитывая этой ее двойственности. Уже в одной из самых
древних молитв мы видим такой взгляд — «Отец наш, Царь наш». Это внутреннее
напряжение — мы предстаем перед Тобой, «либо как дети Твои, либо как рабы
Твои» (из молитвы в Рош га-Шана) — сопровождает весь сборник молитв. Эти
две точки зрения, на первый взгляд, совершенно противоположные, сосуществуют
в мировоззрении иудаизма. Вот строки из сидура: «Ты дальше, чем все далекое,
и ближе, чем все близкое» («Шир га-Ихуд»), или еще: «Если я найду Тебя,
Ты скроешься от меня, а если не найду, то Слава Твоя наполнит весь мир».
Эта двойственная концепция, называемая в философии трансцепдентно-имманентной
(а на языке Каббалы обозначаемая как: «Б-г вне всех миров и наполняет
все миры»), является неотъемлемой частью еврейского взгляда на мир. Она
обсуждается, прямо или косвенно, во всех книгах по еврейской философии.
Классическое для еврейских книг обозначение Б-га как «га-Кадош Барух гу»
(«Святой, Благословен Он»), а также каббалистическое обозначение Всевышнего
«Эйн Соф Барух гу» («Бесконечный, Благословен Он») — само по себе объединяет
эти две характеристики: удаленность и приближенность. Удаленность трансцендентность
выражается понятием «Кадош» («Святой») или «Эйн Соф» («Бесконечный»),
а приближенность/имманентность — понятием «Барух» («Благословенный»).
Все это не просто абстрактная проблема, интересующая лишь философов, —
она находит свое выражение в самой сути еврейской молитвы. Невозможно
понять молитву, не учитывая этой ее двойственности. Уже в одной из самых
древних молитв мы видим такой взгляд — «Отец наш, Царь наш». Это внутреннее
напряжение — мы предстаем перед Тобой, «либо как дети Твои, либо как рабы
Твои» (из молитвы в Рош га-Шана) — сопровождает весь сборник молитв.
Часто молитва, выражающая очищение человека (поскольку она приближает
его к Всевышнему), следует непосредственно за молитвой, прославляющей
Его святость и величие. Иногда один текст совмещает эти две точки зрения:
«Дай нам с миром отойти ко сну, Отец наш, и подними нас назавтра, Царь
наш, для жизни» (из молитвы «Маарив»). Засыпает человек как бы на руках
у Отца, а встает с постели, готовый к служению Царю.
Эти две точки зрения находят также отражение в споре мудрецов, учреждены
ли молитвы праотцами или они учреждены в соответствии с жертвоприношениями
(Брахот 266). В зависимости от того, какая из этих точек зрения доминирует,
в одних общинах превалирует торжественно-обрядовая сторона, в других —
интимно-личная. Но в любом месте и у любого человека всегда присутствуют
оба этих аспекта молитвы.
КЛАССИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ
Каждую неделю в синагоге читается определенная часть Торы, называемая
недельным разделом. За год полностью прочитывается вся Тора. Каждый
недельный раздел имеет название, совпадающее с первыми ключевыми словами
раздела (в частности, это может быть и одно слово).
Если в явном виде не указано иное, все ссылки в комментариях даются
на книгу Ваикра (Левит).
Рядом с названием недельного раздела указана соответствующая ему неделя
(даты): быть может, читателю захочется прочесть недельный раздел и
поразмыслить над ним именно тогда, когда это делают религиозные евреи
во всем мире.
Понятно, что газетные возможности крайне сужены. Дать хоть сколько-нибудь
систематический комментарий даже и небольшому отрывку — невозможно.
Поэтому приведенные здесь фрагменты еврейских классических комментариев
следует рассматривать лишь как указание на многогранность текста Торы
и приглашение к пристальному чтению. Перевод и подбор комментариев
— Д. Софронов, консультант и редактор — И. Гиссер.
АХАРЕЙ
«И положит смесь благовоний на огонь пред Б-гом» (16:13)
Смесь благовоний для жертвоприношений изготавливалась «пред Б-гом». то
есть, непосредственно в Храме. Ведь мудрый начинает исправление мира с
самого себя, в этом источник его искренности и способности влиять на других.
Но если наставник излагает этические нормы и изрекает сентенции, хотя
в сердце его — пустота, за ним никто не пойдет. («Диврей-шаарей-хаим»)
«А [если] ко входу в Шатер Откровения не принесет для жертвоприношения
Б-гу перед Шатром Б-га, то кровь вменена будет тому человеку в вину»
(17:4)
Жертвоприношение — урок жертвенности для человека. Но если еврей приносит
жертву за пределами Храма, — то есть занимается тем, что выходит за рамки
иудаизма, — это приравнивается к бессмысленному кровопролитию, и «кровь
вменена будет тому человеку в вину». («Эглей-таль»)
КДОШИМ
«Бойтесь каждый матери своей и отца своего» (19:3)
Родителей надо чтить, и об этом должен помнить не только ребенок, зависящий
от них, но и взрослый человек — самостоятельная и независимая личность,
которому поддержка родителей не требуется. («Ктав софер»)
«Увещевай, увещевай ближнего своего» (19:17)
Зачем слово повторяется дважды? Воспитание — длительный процесс, и однократный
наскок не даст желаемого результата. «Увещевай, увещевай» — и сегодня,
и завтра. («Хават-яир»)
«Перед сединой — встань» (19:32)
Подумай о душе прежде, чем наступит старость и побелеет твоя голова:
«встань», занимайся Торой и действуй, пока на это есть силы, пока у тебя
есть возможность совершать требуемые поступки. (Из хасидских источников)
ЭМОР
«И если дочь когена осквернит себя блудом, то отца своего бесчестит
она» (21:9)
Есть грехи, передающиеся «по наследству». Как правило, только закоренелый
негодяй способен на тяжкое преступление; обычный человек отшатнется от
этого в ужасе, все его естество восстает против такого греха. Поэтому
злое начало и подстрекает людей лишь к тем нарушениям, которые кажутся
им самим незначительными. Однако сила греха растет как снежный ком и становится
все ощутимей из поколения в поколение. Тяжелее всего противостоять именно
такому, «наследственному», греху, результату духовного бездействия нескольких
поколений. Поэтому если «дочь когена» вдруг совершает столь тяжкий грех
— «отца своего бесчестит она», иначе говоря, это свидетельствует о том,
что предки подвели. («Имрей шефер») Среди евреев есть и такие:
молятся днем и ночью, кичатся своим происхождением и святостью, забывая
о воспитании детей. Они читают святую книгу «Зогар», а их дочери в это
же время — всякую ерунду, если вообще читают. Результат печален: они «бесчестят
отцов своих», которые не удосужились «спуститься с небес» и заняться воспитанием
собственных отпрысков. Подобная «святость» — вершина эгоизма, осквернение
подлинных еврейских ценностей. («Авней-азал»)
БЕГАР
«И если будете продавать что-либо ближнему своему или покупать что-либо
у ближнего своего, не обманывайте друг друга» (25:14)
Деловой человек, молясь Б-гу, нет-нет да и вспомнит о том, что служит
источником его заработка, попросит Творца об успехе. Но помнит ли он о
Б-ге тогда, когда занимается своим делом? Между тем, за порогом синагоги
иудаизм для еврея не заканчивается, а начинается! Если ты честен и прям
при заключении торговых соглашений, исполняешь в срок данные тобой обязательства,
избегаешь обмана, не взимаешь проценты, пользуешься «гирями выверенными»,
знай, что все это и есть святое служение, заповеданное Торой. («Меор
эйнаим»)
«И не обманывайте друг друга» (25:17)
Таково предостережение Закона. Однако человек, желающий достичь истинной
праведности, должен опасаться, прежде всего, самообмана: не лицемерь,
приписывая себе качества, которых ты лишен. (Раби Симха-Бунем из Пшисхи)
С ХАСИДСКОГО СТОЛА
О пользе бедности
• • •
Рабби Шмуэль из Карова отзывался о богатстве с пренебрежением. Это обижало
местных богачей. Один из них даже привел ему слова мудрецов:
— Сказано, «давай бедным десятую часть прибыли, и ты будешь богат». Если
мудрецы говорят о богатстве, как о награде, — значит богатство вещь хорошая.
— Навоз тоже хорошая вещь, однако мало кто любит его под своим окном.
• • •
Говорил рабби Зуся из Аниполя:
— Скажешь: «У Зуси нет денег», — правда твоя. Скажешь: «Зусе не хватает
денег», — ложь.
• • •
— Моя бабушка всегда молилась, чтобы ее потомки были нищими, — рассказывал
рабби Ехиэль-Михл из Злочова. — Не знаю как вы, а я не встречал другой
такой странной бабушки. Впрочем, когда я вырос, я понял ее молитву: богатому
так трудно не растерять совесть и веру.
• • •
Рабби Яаков из Родзимина был очень беден. Однажды местный богач сказал
ему:
— Как же ты, такой умный человек, не стыдишься своей нищеты?
— С чего бы мне ее стыдиться?! Я ее ни у кого не украл.
РАЗГОВОРЫ С РАВВИНОМ
ДЕВУШКА С КРАСНЫМИ ВОЛОСАМИ
Мои родители из России.
Моя жена из России.
Меня учил раввин из России
Адин Штейнзальц отвечает на вопросы
Михаила Горелика
 —
Впервые вы приехали в Россию, если я не ошибаюсь, в 1989 году, а из каких
источников вы черпали информацию о России до этого? И как вы представляли
себе Советскую Россию и советского человека? —
Впервые вы приехали в Россию, если я не ошибаюсь, в 1989 году, а из каких
источников вы черпали информацию о России до этого? И как вы представляли
себе Советскую Россию и советского человека?
— В Израиле всегда был очень силен интерес к России. Что же касается меня, то к такому интересу имелись и дополнительные личные причины. Мои родители родом из России и уехали оттуда уже после революции. Моя жена родилась в России. Мой дядя провел немало лет в Гулаге. Меня учил раввин, проживший значительную часть жизни в Советской России и имевший весьма тяжелый советский опыт. Еще один важный источник информации — толпы людей, приехавших из СССР и бывшего СССР в Израиль. Они, разумеется, как у вас раньше говорили, лица еврейской национальности (прямо надо сказать: далеко не все), но от этого вовсе не перестают быть советскими людьми (хотя потихоньку меняются). В Израиле я сталкиваюсь с ними на каждом шагу. В общем и целом пищи для размышлений у меня хватало.
— В части российской публицистики слова «советский человек», «хомо
советикус», «совок» — стали оскорбительными ярлыками. Забавно смотреть,
как оппоненты честят друг друга «совками». При этом они даже не подозревают,
что «несовку» просто не пришло бы в голову использовать это уничижительное
клише.
— Когда я говорю «советский человек», я никого не хочу обидеть или, тем более, заклеймить. Я просто хочу сказать, что коммунистический режим наложил определенную печать на всех граждан.
— Что вы имеете в виду?
— Дать в двух словах серьезный социально-психологический портрет невозможно. Я перечислю только некоторые его черты, которые представляются мне важными. Например, страх, который пропитывал все поры советского общества. Когда человек боится, он ведет себя не так, как свободный человек. И как следствие страха — недоверие, которое люди питали друг к другу. В обществе, где героем был Павлик Морозов, родители не могли доверять детям. Жена могла доносить на мужа и чувствовать себя при этом настоящей патриоткой. Мужчина и женщина могли со взаимным удовольствием делить ложе, однако это вовсе не давало гарантии от взаимных доносов. А сосед но коммунальной квартире, которому захотелось улучшить жилищные условия?! А заместитель начальника, которому захотелось стать начальником?!
Ну и кроме того, страх и недоверие порождают ложь. Когда люди боятся говорить то, что они на самом деле думают, они начинают лгать. Люди приучались лгать с пеленок. Эти вещи определяют психологию и самые разнообразные аспекты поведения. Вы к этому привыкли, все привычное незаметно— человеку со стороны это хорошо видно. Или вот, например, Сталин говорил, что благодарность — собачья добродетель. Кому хочется быть носителем собачьих добродетелей? То есть в течение трех поколений в России формировался совершенно особый психологический тип. Конечно, после смерти Сталина давление на человека стало помягче. Но все равно все эти стереотипы в той или иной форме еще более тридцати лет воспроизводились.
— И вы считаете такой психологический портрет полным?
— Речь вовсе и не идет о полном психологическом портрете, это в кратком разговоре заведомо невозможно — я же с этого начал. Я сейчас говорил о человеке лишь в его специфическом советском измерении, о тех его важных внутренних чертах, которые определялись политическими условиями его существования.
— Так. Диагноз советскому человеку вы поставили, А как быть с человеком
постсоветским? — Главная его проблема, что он очень уж долго был советским.
То, что было ему когда-то навязано, стало частью его сущности. Сейчас,
как вы сами только что сказали, этого состояния стыдятся, во всяком случае
некоторые стыдятся, и хотят каким-то образом от него избавиться. Но, вот,
только как? Нельзя же просто сделать вид, что это был какой-то кошмарный
сон, нельзя просто вычеркнуть эти десятилетия из истории, притвориться,
что их как бы и не было, нельзя в один момент стать иными. Это совершенно
невозможно. И потом, если люди хотят меняться, у них должен быть какой-то
идеал, понимание, в какую сторону двигаться.
Один из таких идеалов — досоветское состояние: вернуться назад, в дореволюционную Россию. Я хотел бы продемонстрировать утопизм этой идеи на очень простом примере. Девушка, которая в один прекрасный день перестает себе нравиться, решает совершить маленькую личную революцию и красит себе волосы в зеленый цвет.
— Мне кажется, красный был бы революционней.
— Пожалуйста, красный так красный. Проходит два дня, она смотрится в зеркало, и ей начинает казаться, что революция, пожалуй что, не удалась. Ничего страшного: она больше не повторяет революционную процедуру и через некоторое время становится самой собой. Теперь представьте себе, что она ходит в красных волосах долгие годы. И вот она перестает краситься в надежде вернуться к тому — давнему доперекрасочному состоянию. Ничего не получится: прежних кудрей уже нет.
В 20-х годах возврат еще был возможен, сейчас — нет. «Советское» — это маска, которая со временем превратилась в лицо. Советская власть рухнула, но советский человек остался в постсоветском: он не стал добрее, лучше, созидательнее.
— Но что-то изменилось?
— Конечно, изменилось: теперь стало возможно, ничего не опасаясь, нести публично любую околесицу.
— И все-таки: что же делать нашей красноволосой женщине, которая чувствует
дискомфорт, глядя в зеркало?
— Не морочить себе голову глупостями, а родить детей — она пока что еще вполне в фертильном возрасте! 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПИНКУСА
ПО РАЗВИТИЮ ЕВРЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДИАСПОРЕ, ИЗРАИЛЬ
|